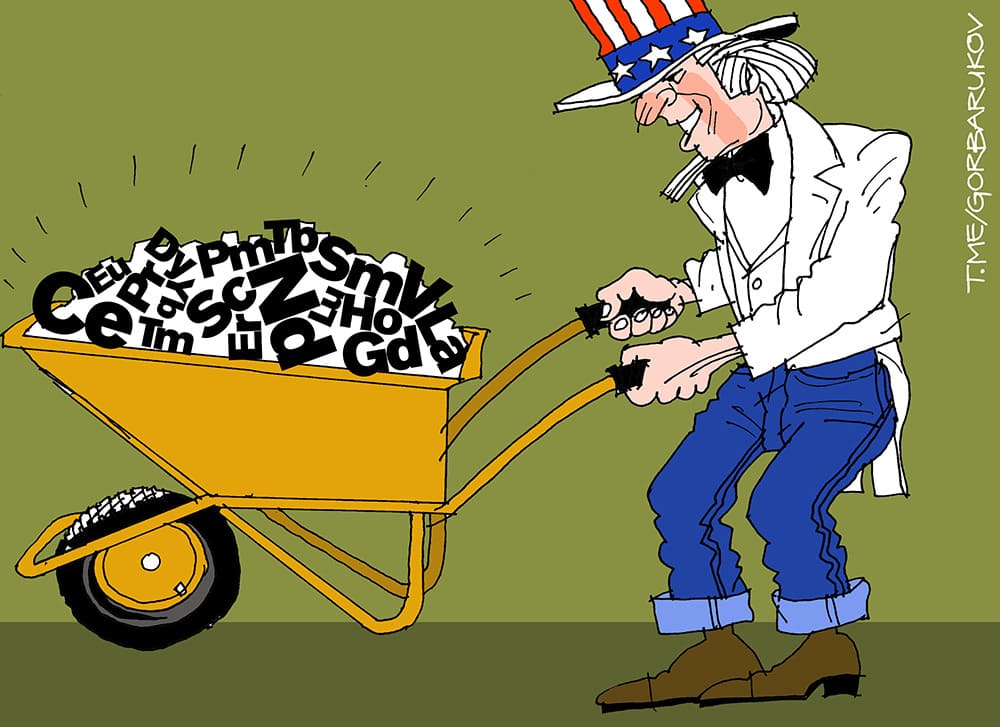Нынче именно эта сторона творчества выдающегося советского, русского писателя выходит на первый план. Актуальность его признания: «Время моё - в грядущем!» высвечивается стихами:
Взлетел расщеплённый вагон!
Пожары… Беженцы босые…
И снова по уши в огонь
Вплываем мы с тобой, Россия…
…Какие ж трусы и врали
О нашей гибели судачат?
Убить Россию – это значит
Отнять надежду у Земли.
В удушье денежного века,
Где низость смотрит свысока,
Мы окрыляем человека,
Открыв грядущие века.
Он сказал за всех нас:
Мы не страну в тебе боготворим, Россия,
Ты больше, чем страна:
ты – мир!
В тебе судьба всего земного шара.
Понимаем, что судьба эта решается сегодня на полях сражений с неофашистской нечистью, бандеровскими прихвостнями.
* * *
Произведения «виртуоза стиха», как назвал писателя, родившегося 125 лет назад в Симферополе, первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский, соединяют нас с прошлым, с грядущим поэта и нашим грянувшим.
Поэт, драматург, фронтовик, называл себя «вечным ратником рыцарского Ордена Стиха». А был ратником страны своей, прошедшим военными дорогами без страха и упрёка, без сомнений, что главное предназначение человека, чья Родина – Россия, защищать её до последней капли крови, какому бы народу бегущая по твоим жилам кровь не принадлежала.
Жизнь крымчанина по рождению, выпускника двух факультетов МГУ – юридического и общественных наук – смолоду проходила в длительных путешествиях. Легко сходился с людьми разных народностей, вникая в их языки. Спокойно изъяснялся не только на русском, но и на украинском, еврейском, наречиях народов Севера. И даже использовал их в своих произведениях.
Прослывший авангардистом поэт не чурался и соцреализма. Размышлял, живо и откровенно реагировал на происходящее в обществе:
Мы путались в тонких системах партий,
Мы шли за Лениным, Керенским, Махно,
Отчаивались, возвращались за парты,
Чтоб снова кипеть, если знамя взмахнёт.
Его охотно публикуют в журналах. А он выражает себя и в стихах, и в прозе, и в драматургии, запечатлевая время: в экспериментальных стихах «Рекорды», эпопее «Улялаевщина», рифмованной повести «Записки поэта», романе в стихах «Пушторг», трагедии «Командарм-2», драматической поэме «Умка – Белый Медведь», трагедии «Рыцарь Иоанн».
Война изменила Илью Львовича круто. Он ушёл на фронт в 1941-м, и все годы – в самой гуще боёв. Батальонный комиссар, подполковник бил фашистов на Крымском, Кавказском и Прибалтийских фронтах. Дважды контужен, тяжело ранен. Награждён за отвагу и мужество тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Мысли и чувства передавал бумаге. Образно, метафорично, попадая в самое «яблочко», что называется, находя отклик в сердцах читателей. Поэта-фронтовика печатают в главной военной газете «Красная звезда». Он пишет о зверствах фашистов и их пособников. Чего стоит только одно его «Я это видел», переданное в редакцию из Керчи 27 февраля 1942 года:
Нет! Об этом нельзя словами –
Тут надо рычать! Рыдать!
Семь тысяч расстрелянных в волчьей яме,
Заржавленной, как руда…
Семь тысяч трупов! Евреи… Славяне…
Да! Об этом – нельзя словами!
Огнём! Только огнём!
Это о расстрелянных в посёлке Багерово детях, женщинах, стариках. Керченский Багеровский ров с телами мирных жителей протянулся на целый километр.
За стихотворение, ставшее гимном Крымского фронта, «Боевая Крымская» заместитель наркома обороны наградил Сельвинского золотыми часами.
…Гей родная, близкая,
как своя семья,
Боевая Крымская
Армия моя!
Вот уже за кровлями
Виден Карадаг.
Ну-ка, братцы кровные,
Двинемся в рядах.
Разобьем уродину,
Свалим, разгромим,
Возвратим на родину
Друга – мила – Крым.
Друга мила Крым отстояли в те годы защитники Отечества, а потом вернули Родине их потомки, и защищают теперь от неонацистской нечисти. Защитят и не отдадут никакой «уродине».
Его призывы поднимали людей из окопов, и они шли на танки, бросались грудью на амбразуры.
Вставай, Кубань, казачья слава!
Вставай, родимая, быстрей.
На правый бой, на бой кровавый
Скликай своих богатырей!..
…О, вы, штандарты дедовских побед,
России величавая отрада! Развеяв
Гитлеровский бред,
Меж вас пылает знамя Сталинграда…
Мечтатель о чуде любви, о чуде вечной юности, о чуде человеческого братства, поэт превратился в неукротимого Воина, защитившего и воспевшего беззаветно любимое Отечество.
В его творчестве множество стихов-посвящений Родине. Утверждая в прологе к драматической трилогии «Россия»: «Есть в России то, что родины дороже, / Что делает ее святынею для всех», он вопрошает:
Но как ухитрился в сермяжке дырявой
Душу сберечь этот странный народ?
Совести как сохранил постоянство…
И отвечает:
Сказать сегодня не берусь,
Но знаю: в парках будущего встанет
Среди цветов
эмблема счастья:
Русь…
Преданный всем своим многочисленным профессиям, мирным и военным, он везде и всегда шёл по поэтической стезе, веря:
Что б ни случилось – помни одно:
Стих – тончайший громоотвод!
Любишь стихи – не сорвёшься на дно:
Поэзия сыщет, поймёт, позовёт.
Редко кто удостаивается при жизни такой признательности коллег, которая выпала Сельвинскому. Турецкий писатель Назым Хикмет считал его «золотоискателем в поэзии». Поэтом-оркестром назвал Илью Сельвинского поэт, художник, философ Максимилиан Волошин. А народный артист СССР режиссёр Евгений Симонов заявил: «Стихотворные драмы написаны пророками и богами, к которым принадлежит и Сельвинский».
На надгробной плите сошедшего с земного круга 22 марта 1968 года поэта на Новодевичьем кладбище выбита его просьба: «Народ! Возьми хоть строчку на память!»
С нами все его строчки!
Всё созданное им в военное и послевоенное время – поистине патриотично. И лирическое, и эпическое. Написанное от души и для души каждого читающего. Они не теряют своей популярности. Как и ставшая песней на музыку Матвея Блантера шуточная «Черноглазая казачка», написанная в счастливый послевоенный день.
Искавший «в искусстве живую кровинку» нашёл её, и не одну.
* * *
Отчий Ильи Сельвинского дом в Симферополе с 2009 года – музей, где сохраняется его дух, всё дышит творчеством. Здесь много лет проводились Крымские научные чтения, в которых принимали участие филологи, историки, краеведы России, Украины, Канады, Соединённых Штатов Америки, изучающие творчество Ильи Сельвинского. Нет сомнения, что придёт время, когда встречи эти возобновятся, и к изданным сборникам докладов добавятся новые, с интересными сведениями и размышлениями.
А дом не пустует. Приходят сюда люди, чтобы познакомиться с постоянной экспозицией и сменными выставками, дополняющими её новыми фотографиями, документами, книгами. Музейное пространство открыто для встреч учёных, писателей, студентов и школьников, для проведения художественных выставок.
Отмечая заслуги поэта, председатель комиссии по литературному наследию Ильи Сельвинского Лев Озеров подчеркнул: «Он дал историю в развороте от средневековья до современности. Он дал общество в разрезе: от холопов до царей. Он дал все виды и жанры литературы: от двустишия – до романа в стихах, от сонета до эпопеи. Он дал впервые в русской литературе свод былин киевского цикла «Три богатыря». Поэтический материк Сельвинского густо заселён народами, и в этом многоголосье слышится неповторимый язык каждого человека
Крым – фактическая и духовная родина Ильи Сельвинского. Крымские впечатления лежат в основе поэтического мироощущения поэта, они получили многообразное творческое воплощение в его лирике, эпосе, драматургии. Многонациональный Крым, земля, наполненная свидетельствами древних культур, следами далеких и близких исторических событий, научили его остро чувствовать движение времени.
Как бой барабана, как голос картечи,
Звучит это грозное имя – «Крым».
Творчество настоящего поэта всегда прорывается через время и пространство. А значит, и он сам. Поэт-патриот Сельвинский – с нами.
Ещё одно доказательство: переиздание романа «О, юность моя!» при поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым за счёт бюджетных средств и с творческим участием республиканского отделения Союза писателей России. А инициатива принадлежит евпаторийскому исследователю творчества писателя Людмиле Никифоровой, автору многочисленных статей и книг, посвящённых жизни и творчеству мастера слова, председателю Евпаторийского культурно-просветительского общества имени Анны Ахматовой, взявшей на себя труд составителя.
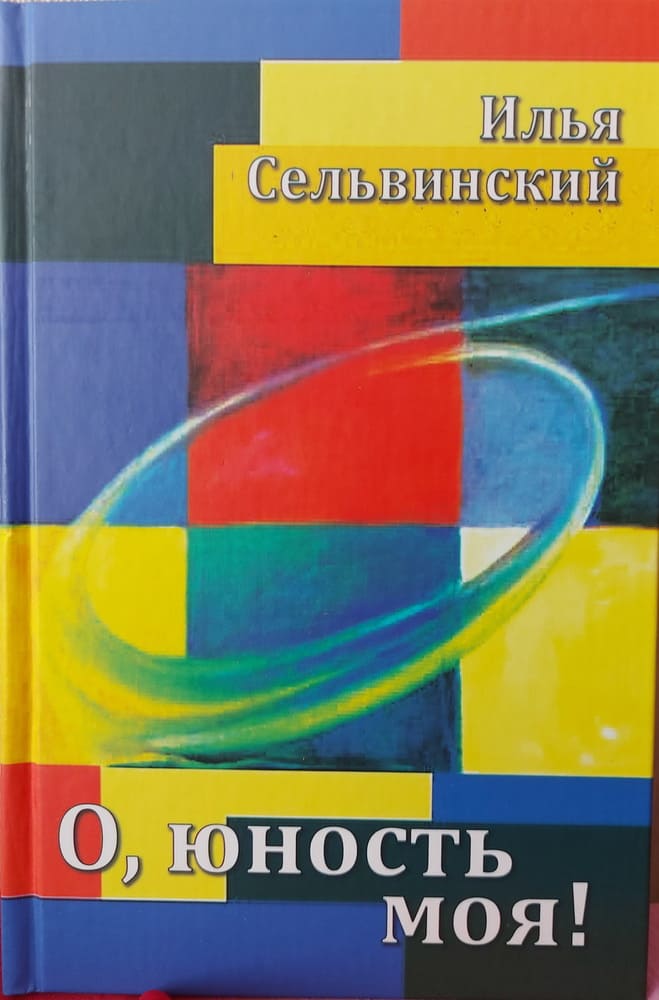
Так получилось, что роман стал одним из непрочитанных произведений отечественной литературы, несмотря на солидный тридцатитысячный тираж. Задуманный ещё в середине 30-х, увидел свет сначала в журнале «Октябре» в 1966 году, а отдельной книгой – в 1967-м, роман преднамеренно игнорировался. Прежде всего, потому, что в нём не только честно и беспристрастно описывались события, происходившие в Крыму в начале турбулентного XX века, но и потому, что персонажами повествования были крымские татары, немецкие колонисты, которых в шестидесятых годах рекомендовалось не упоминать. О многом, что сошлось на страницах романа, говорить было не принято. А автор обойти не мог.
И вот теперь книга стала настоящим бестселлером, и на неё в библиотеках записываются в очереди. Получили её все государственные библиотеки городов и районов полуострова.
Сельвинский мечтал войти в грядущее. Так и произошло. А книга «О, юность моя!» соединила прошлое с его грядущим и нашим грянувшим.