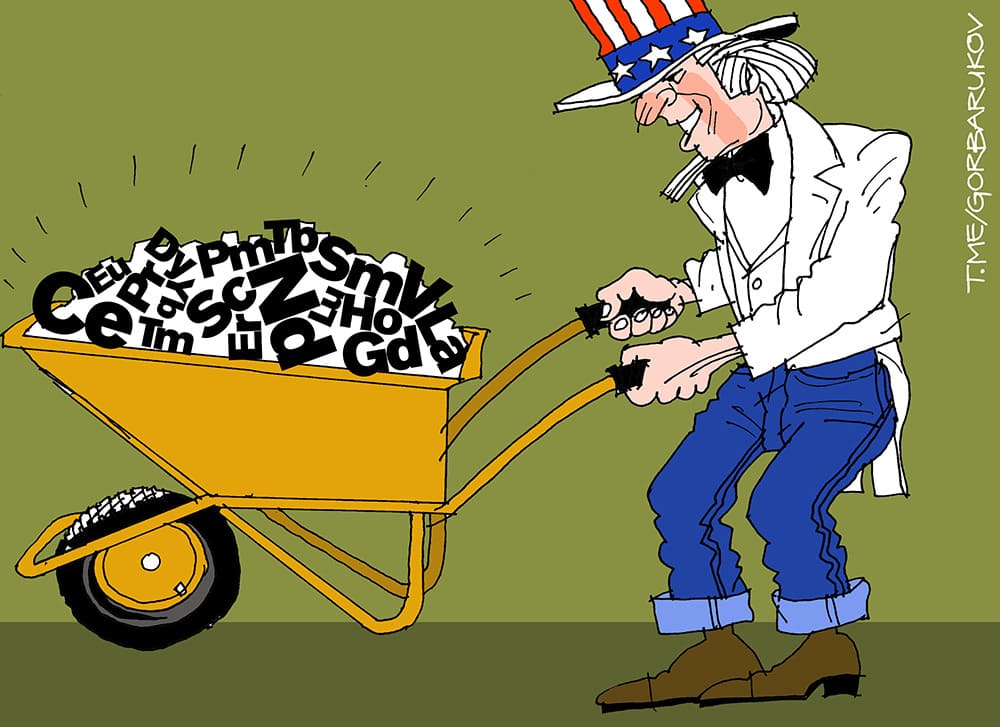В ночь на 1 мая 1945 г. в расположение штаба 8-й гвардейской армии, вместе с другими армиями 1-го Белорусского фронта подавлявшей последнее сопротивление берлинского гарнизона, прибыл немецкий офицер-парламентёр с пакетом, адресованным советскому командованию. В нём содержалась просьба установить время и место перехода линии фронта начальником Генерального штаба сухопутных войск вермахта генералом Г. Кребсом для сообщения особой важности. В 3.00 Кребс был доставлен к командующему армией генерал-полковнику В.И. Чуйкову. Немец сообщил о самоубийстве Гитлера, о составе нового правительства Германии во главе с гросс-адмиралом Дёницем и передал обращение Геббельса и Бормана к Главному командованию Красной армии с просьбой о временном прекращении боевых действий в Берлине как условии мирных переговоров между Германией и СССР.
Сообщение было передано командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу Г.К. Жукову, который доложил о нём в Москву, поручив переговоры с германским руководством своему заместителю генералу В.Д. Соколовскому. Позвонивший из Москвы И.В. Сталин приказал Г.К. Жукову: «Передайте Соколовскому, никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вести».
Нацисты продолжили бесполезное сопротивление, отклонив требование о безоговорочной капитуляции. В 18 часов того же дня вся артиллерия, участвовавшая в штурме города, нанесла мощный огневой удар по немецким позициям; войска 8-й гвардейской армии продолжали штурм Тиргартена. В ночь на 2 мая остатки гарнизона, оборонявшего подступы к имперской канцелярии, были расчленены. На рассвете 2 мая на командный пункт Чуйкова прибыл комендант Берлина генерал Г. Вейдлинг, объявивший своим войскам о немедленном прекращении борьбы. К 15 часам 2 мая гарнизон Берлина капитулировал.
После окончания войны в германской столице, как заявил Маршал Советского Союза Г.К. Жуков на пресс-конференции в Берлине 7 июня 1945 г., «отношения между Красной Армией и немецким населением определяются строгим оккупационным режимом».
Правда, трудно найти в истории другие примеры, когда «оккупанты» так бы заботились об «оккупированных»: согласно постановлению военного совета 1-го Белорусского фронта от 11 мая 1945 г., на одного жителя Берлина в неделю выделялось до 3 кг хлеба, 0,5 кг мяса, почти 1,5 кг сахара, 350 г натурального кофе, а также овощи и молочные продукты. Питанием обеспечивались самые разные категории берлинцев: рабочие, служащие, дети, врачи, учителя, служители культов, больные и иждивенцы. Далеко не каждый советский гражданин в это же самое время имел такое обеспечение. Кроме предоставления продовольствия, советской комендатурой были приняты меры по обеспечению медикаментами больниц и аптечной сети города.
«Я считаю, – подчеркнул, развивая свою мысль, Жуков, – что наши отношения с немецким народом будут зависеть от того, как поведут себя в дальнейшем немцы. Чем скорее население сделает для себя правильный вывод из поражения Германии, тем будет лучше для него».
Эти слова были произнесены маршалом, повторимся, на пресс-конференции в Берлине 7 июня 1945 г. Специально для участия в ней из Москвы прибыли 11 иностранных и восемь советских журналистов. Момент для встречи с представителями прессы был избран явно неслучайно. За два дня до этого 5 июня державы-победительницы приняли Берлинскую декларацию, в которой официально заявили о принятии на себя верховной власти в Германии. Осуществлять ее был призван Контрольный совет из высших представителей четырех держав: СССР, США, Великобритании и Франции. По решению политических лидеров великих держав их представителями в Контрольном совете стали главнокомандующие национальными вооруженными силами на Европейском континенте: Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, генерал армии США Д. Эйзенхауэр, английский фельдмаршал Б. Монтгомери и французский генерал Л. де Тассиньи. Они подписали Декларацию о поражении Германии и должны были теперь управлять и ею, и Берлином.
На пресс-конференции маршал Жуков был по-военному лаконичным. Отвечая на просьбу сообщить подробности сражения за Берлин, он оценил эту операцию как достаточно успешную по темпам и результатам, по вкладу в развитие теории военного искусства, отметил, что Красная Армия потеряла в ней значительно меньше, чем немецкие войска. Подчеркнул, что залогом успеха стала серьезная подготовка: «Мы сосредоточили крупные силы артиллерии, танков, авиации, чтобы можно было в кратчайший срок сломить сопротивление противника и быстро овладеть самим Берлином. Особое внимание при подготовке этой операции было обращен на точное взаимодействие всех родов войск».
Нанесенный советскими войсками удар, в самом деле, не выдержала бы никакая оборона: при огневой поддержке 22 тыс. артиллерийских орудий и минометов в наступление пошли 4 тыс. танков, с воздуха их поддерживали 4-5 тыс. самолетов.
Со сдержанной, но зримой гордостью Жуков рассказал о способе атаки, избранном им как командующим с таким расчетом, чтобы она оказалась для командования вражескими войсками неожиданной, при том что «конечно, немцы ждали нашего удара на Берлин». Таковым способом стал переход в наступление одновременно всеми войсками фронта и в ночных условиях. Этого немцы «по показаниям пленных, не ожидали, – отметил Жуков. – Немецкое верховное командованием было уверено, что главная атака Красной Армии невозможна ночью».
Оригинальной находкой стало использование, как выразился маршал, «одного технического новшества»: примерно через каждые 200 м были установлены мощные прожектора, которые не только подсвечивали путь наступающей пехоте и танкам, но и ослепляли противника, мешая ему вести прицельный огонь.
Забегая вперед, скажем, что позднее некоторые военачальники и теоретики порицали Жукова за то, что он, начиная Берлинскую операцию со штурма Зееловских высот, вопреки теории ввел обе танковые армии 1-го Белорусского фронта в сражение еще до прорыва всей тактической зоны обороны. Но критики Георгия Константиновича не могли взять в толк, что это был единственно правильный вариант действий. От Зееловских высот до Берлина немцы устроили сплошную глубокоэшелонированную оборону, которую, не введи маршал в сражение танки с самого начала, пришлось бы прорывать пехоте. Можно лишь представить, с какими жертвами это было сопряжено и насколько затянулся бы прорыв наших войск к фашистской столице.
В своей правоте маршал был твердо убежден, он и на этой пресс-конференции отметил, что немецкое командование, видя, как трещит оборона на подступах к городу, сняло значительную часть войск, предназначенных для непосредственной обороны столицы. Красная Армия, таким образом, еще не входя в черту города, перемолола большую часть обороняющихся частей, что значительно облегчило ей задачу при непосредственном штурме города.
Известный британский журналист Александр Верт (в 1964 г. он издал переведенную на многие языки книгу «Россия в войне. 1941–1945», написанную с большой симпатией к советским людям) задал вопрос, как маршал оценивает заявление немцев, что он научился военному искусству у немецкой армии. Пусть немцы говорят, что хотят, отрезал Георгий Константинович, а он же сам считал и считает, что русское военное искусство всегда стояло неизмеримо выше немецкого. И заключил, как гвоздь забил: «Современная война неопровержимо доказала это».
 В центре Берлина у Бранденбургских ворот состоялась церемония награждения советских военачальников высшими военными орденами Великобритании. Награды вручил маршал Б. Монтгомери
В центре Берлина у Бранденбургских ворот состоялась церемония награждения советских военачальников высшими военными орденами Великобритании. Награды вручил маршал Б. Монтгомери
А вот как полководец отреагировал на просьбу сравнить оборону двух столиц. «Сравнение обороны Москвы (которой Жуков командовал в 1941 г. – Ред.) с обороной Берлина совершенно невозможно, – отрезал маршал. – Немцы были разбиты Красной Армией на Одере, и здесь фактически был положен конец немецкой армии. У нас же лишь под Москвой началась настоящая оборона. Оборонять Москву вышли технически сильно оснащенные и морально крепкие советские войска, благодаря которым мы могли не только оборонять Москву, но нанести сильный контрудар противнику».
В устах полководца, войска которого в 1941 г. спасли нашу столицу, а в 1945-м штурмом взяли столицу Третьего рейха, эти слова прозвучали с особенным чувством.